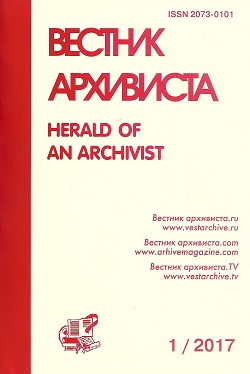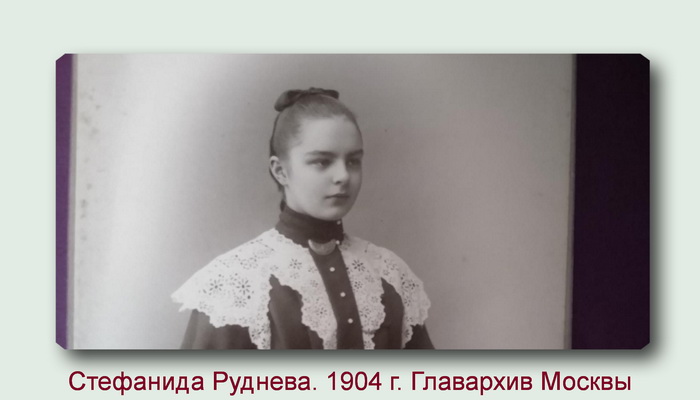| 29 Октября 2010
В архивах России хранятся десятки тысяч писем с фронта. Вероятно, их не меньшее число сохраняется как дорогая реликвия о близких людях в личных архивах граждан. Сегодня их значительный комплекс опубликован.
Прим. В статье использованы документальные публикации фронтовых писем последних лет: Нам выпало на долю…Великая Отечественная война в письмах, дневниках, воспоминаниях. Тверь, 2005 (далее - 1); Письма Великой Отечественной. Тамбов, 2005 (далее - 2); Ставрополье: правда военных лет. Великая Отечественная в документах и исследованиях. Ставрополь, 2005 (далее - 3); Солдатские письма. Саранск, 2005 (далее – 4). Ссылки на эти публикации даются в тексте статьи: первая цифра – номер издания, вторая цифра после запятой – номер страницы издания.
Опубликованный комплекс фронтовых писем представляет собой, конечно же, выборку полутора-двух тысяч из миллионов написанных в годы Великой Отечественной войны писем, возможно, сотен тысяч сохранившихся и еще больше – не пропущенных военной цензурой, созданной 6 июля 1941 г., и в разные времена уничтоженных по этой причине. Поэтому особую ценность представляют июньско-июльские 1941 г. фронтовые письма, до которых еще не успела дотянуть руки военная цензура.
В письмах этого времени – злая правда войны. Например, рядовой М.И. Невструев 13 июля 1941 г., когда еще цензура не была налажена, сообщал жене немыслимые позже для фронтовых писем подробности: «Я тебе писал раньше, что мы стояли на границе в 6 километрах, а теперь отошли назад, так как немец занял уже город Опочку и теперь движется по направлению к Ново-Ржеву, и мы от Опочки сейчас находимся в 40 километрах. Так вот, видишь, как будто дело не совсем как охти важное – у него очень хорошо работает артиллерия и авиация, а мы на фронте своих самолетов совсем не видим, людей оставляем на поле боя» (1, 20).
К тому же не следует исключать и то, что не все публикаторы фронтовых писем даже в новой России смогли выдержать беспристрастие в их отборе для документальных публикаций. Полный обзор сохранившихся фронтовых писем и их научный анализ еще принадлежит времени. Профессиональному историку понятно, где искать их сохранившиеся острова и даже, может быть, материки, либо хотя бы «следы» этих документальных островов и материков, безжалостно топившихся волнами военной безопасности и идеологической осторожности и в годы Великой Отечественной войны, и позже.
Как бы то ни было, но письма времен войны – это не просто факт жизни ее участников, это целое явление ее истории, относящееся одновременно к пониманию человека на войне, и к пониманию человека в тылу этой войны, и отражающее одновременно некие душевные состояния человека, находящегося не просто в экстремальной ситуации, но в ситуации, постоянно и реально угрожающей его жизни. Речь идет фактически о рядовом человеке на войне – солдате, сержанте, старшине, лейтенанте, капитане, майоре – по странным причудам судьбы именно письма этих категорий фронтовиков в большинстве случаев и опубликованы.
Немало значит и то, что мы сегодня имеем дело только с выборкой фронтовых писем россиян, граждан современной России. В этой выборке письма других граждан СССР того времени отсутствуют. Разумеется они есть.
Сегодняшний неискушенный читатель, даже если он способен осилить эту пару тысяч опубликованных фронтовых писем, очень даже возможно скептически поведет головой: внешне большим разнообразием содержания эти письма не отличаются, хотя, разумеется, индивидуальность авторских характеров легко просматривается. Разведчик Н. Евдокимов в письме к родителям 15 мая 1943 г. эту особенность охарактеризовал следующим образом: «Если посмотреть на всю мою и моих товарищей жизнь за весь период войны, то эти жизни с внешней стороны так похожи одна на другую, а с внутренней нет. Каждый живет своим, каждый выберет хотя [бы] одну минуту, чтобы подумать о чем-то ему дорогом» (2, 167). Вероятно, причин этому несколько.
Во-первых, экстремальность ситуаций их написания – районы непосредственных боевых действий, госпитали, даже учеба в военных учебных заведениях с ожиданием неизбежного направления на фронт и т.д. Шофер-фронтовик А. Измайлов в декабре 1943 г., например, так сообщал об обстоятельствах написания своего письма некоей Ольге: «Оля, вспоминаются все знакомые и даже незнакомые в те минуты, когда сидишь в землянке и перед тобой нечаянно найденная чернилка и заржавленное перо, рука так и тянется чиркнуть кому-нибудь. После того, как ручку не держал в руках более полугода, буквы прыгают, как пьяные» (2, 228). Экстремальность нередко дополнялась бумажным дефицитом – просьбы к адресатам присылать ее для писем достаточно распространены, причем, даже в конце войны. «Спасибо за последние ласковые и нежные письма. Благодарю! Продолжай в том же духе и в том же роде, но только не забывай – вкладывай в каждое письмо по чистенькому листочку бумажки», - просил в июле 1944 г. артиллерийский техник В.С. Чистяков у своей сестры Е.С. Чистяковой (2, 392). И в тылу, оказывается, с этим делом было не лучше, о чем свидетельствует, например, письмо курсанта И.Е. Мельникова своей матери от 2 мая 1944 г.: «Два листка [чистой] бумаги я ваши получил, за которые большое спасибо» (2, 401). Во фронтовых условиях непросто было сделать и фотографии для близких, о чем свидетельствуют многочисленные сетования фронтовиков на то, что «никак негде» это сделать даже в 1944 г. и даже не только на фронте, но и в тылу (2, 400). Для историков-архивистов это должно быть знаковым сигналом максимально возможно полного собирания фотографий времен Великой Отечественной ее рядовых участников.
Во-вторых, разный уровень образованности авторов, часто не позволявший письменно изложить весь спектр чувств, переживаний, картин ими увиденного. Это, в частности, проявлялось в несоответствии больших обещаний рассказать о нечто судьбоносном в начале писем и скромным их основным содержанием. Формулы типа: «Сообщаю о себе… Но больше и писать нечего» (2, 426) очень распространены, свидетельствуя о непривычности для авторов фронтовых писем пользоваться пером.
В третьих, самоцензура, предусмотрительно предвидевшая официальную военную цензуру, не позволяла быть авторам фронтовых писем откровенными в описании увиденного и о своих размышлениях об увиденном и пережитом: «нельзя все описывать», - эта формула рефреном или с видоизменениями, многозначительными намеками и полуумолчаниями неизменно проходит через большинство фронтовых писем. Гвардеец-артиллерист П.Ф. Болмосов, вероятно, очень бы хотел поделиться боевым опытом со своим отцом, но в письме к нему, проявляя «военную хитрость», в ответ на просьбу своего корреспондента сообщает: «Папа, Вы пишете, что интересно знать, на какой артиллерии я бью фашистов. Папа, я тебе одно могу прописать, что я могу работать на всех видах артиллерии. Папа, но я работаю не в тяжелой и не в легкой, но часто бываю на прямой наводке и бываю [в] нескольких километрах от переднего края» (2, 413). Попробуй отец, а заодно и коварный враг по этим словам догадаться, что автор письма «работает» на «Катюше».
В четвертых, часто для авторов фронтовых писем был куда важнее сам факт написания письма кому-либо, наличия переписки с кем-либо. Не случайно мы встречаемся с многочисленными случаями организованной инициации переписки. Так, например,10 января 1943 г. фронтовой лейтенант В.Н. Гаврилов обратился к первому секретарю Тамбовского горкома ВЛКСМ К.Е. Кирнос: «В нашем подразделении есть два комсомольца, территория которых оккупирована немецкой нечистью, и данные товарищи совсем не получают писем. А здесь, на передовой, получить письмо – очень, очень большая радость. Поэтому прошу Вас поручить девушкам школы или техникума черкнуть пару слов, а каких – Вы им скажите» (2, 302-303).
Случались и личные инициативы. Так, рядовой П.В. Санин через первого секретаря Тамбовского обкома ВЛКСМ писал тамбовчанкам: «Товарищи девушки-комсомолки, дайте же мне весточку, бывшему вашему тамбовскому комсомольцу. Напишите мне хоть пару строчек, ведь так трудно без ваших писем в дни наших сражений. Не все же вы заняты перепиской со своими знакомыми фронтовиками. Есть же и из вас как и я, не имеющий переписки» (2, 306). Схожие чувства испытывает и боец В.Д. Вершинин в письме к комсомолкам Токаревского райкома ВЛКСМ Тамбовской области от 13 октября 1944 г.: «Напоминаю вам свои слова письменно о том, что я сам одной душой живу четырнадцать лет. Конечно, можете представить себе как скучно одному, особенно, когда получают товарищи письма от товарищей, родителей и близких своих девушек, то становится грустно на душе молодого бойца. Внимание мое к вам, может быть последует вам, кому-нибудь из вас, девушек-комсомолок» (2, 450).
Им вторит фронтовой командир Н. Горшков в письме к землячке, «незнакомой девушке-комсомолке» от 10 апреля 1945 г.: «Но вот уже как пятый год я не имел возможность увидеть свои родные края, знакомых людей. Мне не пришлось иметь переписку с молодежью ввиду их выбытия в армию и в других направлениях. В настоящее время я не могу знать, кто сейчас остался из мне знакомой молодежи. Я надеюсь, что Вы не будете против быть моей знакомой и с удовольствием опишете мне о жизни молодости в Токаревке…Я надеюсь, что из-за уважения к фронтовику-командиру как комсомолка ты с удовольствием ответишь мне» (2, 461).
Фронтовые письма отчетливо делятся на три разновидности. Первая – персональные письма персональным адресатам – родным, близким, знакомым. Вторая – персональные и коллективные письма в партийные, советские, комсомольские организации. Третья – коллективные письма с фронта родным, близким, знакомым фронтовиков К сожалению, практически неизвестны письма с фронта на фронт, т. е. переписка фронтовиков – друзей, знакомых, родственников, земляков, участников боевых действий друг с другом.
Каждая из разновидностей этих писем имеет свой, резко отличный от других формуляр.
Формуляр первой, наиболее распространенной разновидности фронтовых писем, включал с разной последовательностью несколько устоявшихся элементов. Первый из них - обращение автора к индивидуальному или коллективному адресату, часто, когда письма писали авторы, сформировавшиеся в начале ХХ в., в очень торжественной, степенной, основательной форме: «Добрый день, многоуважаемая супруга Мотя. Во-первых строках своего письма спешу уведомить Вас, что я в настоящее время нахожусь жив и здоров. Того же и Вам желаю – всего наилучшего в Вашей дальнейшей жизни – и шлю я Вам свой супружеский привет. Еще кланяюсь деткам Нине, Тоне, Маше и сыну Ване и еще кланяюсь маме и сестре Моти и шлю я вам всем свой армейский фронтовой привет и желаю доброго здравия в вашей дальнейшей жизни. Еще кланяюсь маме, Мане и Леониду» (2, 425-426). Иногда эти письма в поэтической форме, явно стандартизированной и распространенно: «Добрый день или час! Что делаешь, Маня, сейчас? Брось думать и мечтать, начинай письмо читать!» (2, 408).
Второй элемент этой разновидности фронтовых писем очень часто представлен информацией о погоде в момент написания письма, нередко встречается описание окружающей природы, особенно, когда фронтовик оказывался за границами СССР.
Третий элемент - сообщение о состоянии автора письма (жив, здоров, ранен, находится на лечении в госпитале, готовится к бою, закончил бой и т. д.).
Четвертый элемент содержал приветы односельчанам, родственникам, знакомым.
Пятый элемент формуляра состоял из бытовых просьб (например, прислать что-либо) и предложений от себя (перевод денег, отправка фотографий и др.).
Шестой элемент представлял собой пожелания получения ответа и продолжения переписки.
Седьмой элемент состоял из сознательной и бессознательной передачи фактов фронтовой повседневности.
Восьмой элемент состоял из просьб сообщить о судьбах родственников, близких, знакомых.
Девятый элемент - это простая или распространенная подпись автора письма.
Десятый элемент представлял собой своеобразные экзотерические размышления авторов.
Формуляры второй и третьей разновидностей фронтовых писем были похожими друг с другом, включая с разной последовательностью: 1) торжественное обращение к партийным, комсомольским, советским адресатам с выражением верности идеям партии и действиям советского руководства; 2) сообщение о подвигах и заслугах; 3) предложения и просьбы; 4) заверения в неизбежности Победы и о жертвенном вкладе ради нее авторов писем; 5) коллективную или индивидуальную подписи.
Эти три, а фактически два, типа формуляров документов войны на самом деле отразили два класса документов – класс документов неофициального (личного) происхождения и класс документов фактически официального происхождения (последнее подчеркивалось указанием на воинские должности и звания).
Ниже мы и попытаемся рассмотреть эти две разновидности фронтовых писем, чтобы определить их значение в изучении истории великой войны через не самый, может быть, главный ее документальный исторический источник, а через документ, создававшийся ее рядовыми участниками для других таких же, только не фронтовых его участников – родных и близких фронтовиков.
Жить и выживать без любви и преклонения кому-то или чему-то человеку, тем более находящемуся в условиях войны, невозможно. Да, конечно, такой идеал – это Родина. Фронтовик знает, что она очень большая, верит в то, что она самая могучая и справедливая. Но в своем подавляющем большинстве он ее не видел – разве что в пределах родного города, в округе села и деревни. Фронтовик прекрасно понимает, что он защищает эту большую Родину от реальной угрозы, но для него куда понятней защита той жизни, которой он жил. А она была не то чтобы одинакова, но все же похожа в своих проявлениях социализма. И потому – более или менее понятна.
Поэтому во фронтовых письмах мы преимущественно видим твердое, само собой разумеющееся, не подверженное даже тени сомнения понимание Родины - не как важного, но все же отвлеченного понятия, а как родного своего дома, оставшегося за спиной фронтовика. Здесь практически нет риторики, связанной с защитой советского строя и его завоеваний. Дом как связующее звено с прошлой жизнью фронтовика, с его делами и помыслами до войны, как некий светлый символ его прежней жизни на самом деле является главным помыслом авторов писем. Из письма рядового Ф.П. Чернобровкина матери 26 августа - 6 сентября 1941 г.: «мамаша, как покончим жизнь фашизму, тогда я приеду домой, к вам приеду повидаться. Обратно встренусь с вами, повидаемся, посидим за столом, обратно соберемся все вместе, все братья, сестра» (2, 44).
Другой рядовой - М.И.Гусев в январском письме 1942 г. к родным также мечтает о доме: «Мы тут аккордеон немецкий достали. Теперь весело живем с музыкой. А еще у нас мотоцикл есть вражеский. Зверь! Это вам не на хромой кобыле верхом скакать. Нам бы в хозяйстве не помешал» (2, 106). Мечтает о доме и младший лейтенант В.П. Савиных в письме к сестре от 24 августа 1942 г.: «Вот прогоним фашистов с нашей земли, расплачусь. Буду жениться, обязательно тебя в сватьи устрою. Только уж жену, Тоня, подыщи такую: роста среднего, не толстую, не тонкую» (2, 121).
8 апреля 1943 г. разведчик В.П. Баранов написал любимой девушке: «Сегодня я получил твое письмецо. Оно сразу напомнило мне родной дом, друзей и десятки картин из моей прошлой жизни. Что может быть роднее воспоминаний о прошлом для человека, шаг за шагом освобождающего свою землю от проклятых врагов? Представь себе хмурое небо, мелкий дождь, злой посвист ветра, степь, траншею, в которой я нахожусь, и тебе станет ясно, почему я так любовно говорю о прошлом» (2, 148). Уже упоминавшийся выше Чистяков в апрельском (1945 г.) письме к сестре из Германии с ностальгией писал: «Лучше нашей Родины не найти, о ней – о далекой, о родной – часто вспоминать приходится, как о чем-то сказочном. Иногда с друзьями вспомнишь и о детстве, о проделках в школе и на улицах, посмеешься от души…» (2, 395).
Корреспондент фронтовых газет и одновременно младший командир одной из боевых частей С.И. Голованов в письме к своим родным 17 августа 1944 г. отмечал: «Из Тамбова моим товарищам пишут, что там идут дожди. Это, конечно, плохо в период уборки урожая. Здесь стоят туманы, с Карпатских гор дуют холодные ветры. В чужой стране всегда холодно. Как хочется увидеть родные края!» (2, 418).
И это при том, что авторы писем прекрасно знали, что жизнь до войны дома была далеко не сладка, а во время войны – и того горше. Курсант И.Е. Мельников, получив письмо от матери, 2 мая 1944 г. отвечает ей: «Я узнал, что вы уже собираетесь сеять огород, что колхоз выехал в поле. Только плохо, что посадили дядю Саню и взяли у него корову. А главное – это то, что вы теперь свалили с шеи, это выгнали в поле скотину» (2, 400).
Мечта о возвращении, мечта о встрече с близкими после войны, а значит, мечта о выживании на фронте постоянна и неизменна. Курсант Н. Прищепа в письме к близким 11 марта 1944 г. пишет об этом так: «За меня вы меньше всего беспокойтесь, больше думайте про свое здоровье и как бы лучше вам прожить. Только молите Бога, чтобы я остался в живых, то тогда повстречаемся и [вспомним] о многом прошлом, что встречалось в вашей и моей жизни» (2, 397).
«Ну, ничего, папа, только бы живым остаться и с родными увидеться», - пишет артиллерист-гвардеец П.Ф. Болмосов своему отцу 29 июля 1944 г. (2, 412). Неизвестный «Иван» в письме к родственникам делится своей мечтой: «Очень соскучился по всем вам, хочется хоть на миг приблизиться к дому, обнять и поцеловать всех вас. Поскорее бы закончилась эта проклятая война!»(2, 399). Его мечту повторяет минометчик Г.И. Агеев в письме жене и дочерям 12 июля 1943 г.: «Катя, как я соскучился без вас, без своих доченек. Наверное, они теперь стали большие. Как я с ними поговорил бы, и они теперь, носили бы мне завтрак на покос. Доченьки мои милые, отпишите, наверное, вы ходите за ягодами и за грибами. Пишите письма, пока жив» (1, 37).
Красноармеец А.П. Кондарев в письме жене 25 ноября 1941 г. мечтает о том же: «Эх, Тонька, всему виною Гитлер, сволочь. Но придет тот день расплаты, дорого ему придется платить за нашу кровь и молодую жизнь, уничтожим гадину, а тогда опять цветы, опять любовь, опять молодая жизнь вернется, по-старому настанут наши времена» (4, 138).
Фронтовик хочет знать все о доме, поэтому жалобы о нерегулярности получения из него писем, на задержки с ответами из тыла постоянны и даже раздражительны. В апрельском письме 1944 г. сапер Б.П. Крючков, обращаясь к своей сестре Любе, пишет: «Люба! Передай папе, маме и Вале большой привет. Я обижаюсь на них за то, что не пишут. Быстрее и чаще пиши. Письма – это для меня то же, что для вас хлеб» (2, 376). В следующем письме, уже после получения долгожданного ответа на предыдущее, тот же автор признается: «Я сейчас пока жив и здоров, живу ничего, хорошо. Но только одним плохо, что мало получаю от вас писем. Я их жду каждую минуту, каждый час. А какая для меня радость, если я получаю от вас письмо! Все письма, полученные от вас, я берегу у себя в планшетке и в свободную минуту перечитываю их по несколько раз» (2, 376).
Это ощущение радости и счастья от чтения на фронте писем близких передает и письмо упоминавшегося выше красноармейца Кондарева: «Тося, читая ваши письма, таким бываешь радостным и считаешь себя счастливым человеком, что весточка от родных, друзей, которые так близки и милы для моего сердца» (4, 138).
Рядовой О.С. Грибков в письме к сестре в январе 1945 г. настойчиво просит: «Дорогая Светланочка, я тебя уже несколько раз просил описать мне жизнь Моршанска, стоимость продуктов и вообще всю жизнь. Опиши мне также жизнь и дела в школе, кто остался из старых учеников, учителей и т. д. (2, 430).
Ожидания весточек от близких, переживания от их задержек присущи всем фронтовикам, независимо от их воинской иерархии, образования. Начальник штаба стрелкового полка Г.Я. Меркушкин ждет этих весточек от своей жены точно также, как и все его подчиненные: «Шурик, мне бывает тяжело, когда долго от тебя нет писем. Я начинаю мучиться, беспокоиться, думать, что случилось с моей крошкой» (4, 174).
Там, где дом, там любимая женщина, отец, мать и дети. Тревога за их благополучие – это тоже своеобразная защита дома - то посылкой облигаций внутреннего займа, то денег, то аттестата, а то и – крайне редко – продуктов. «Клава, 18 сентября я послал тебе денег 300 или же 350 руб. - я уже что-то забыл, а также посылал тебе и в августе, но не знаю – получила ли ты их или же нет. Клава, сообщи, получаешь ли ты деньги по аттестату, и вообще как у тебя в материальной жизни», - тревожится в своем письме жене старший лейтенант И.И. Аверин (2, 216).
Ровно через год после начала войны сержант И.И. Бобров пишет своим близким: «Вчера еще вам послал 300 руб., как получите, так напишите, чтобы я не сомневался. Каждый месяц я буду переводить вам, сколько могу, может быть, хоть эти мизерные средства составят вам кой-какую материальную помощь. А мне деньги абсолютно не нужны. Покупать здесь нечего. В лесу нет ни магазинов, ни ресторанов, одни только комары…» (1, 34). Сначала курсант, а затем фронтовой лейтенант Н.П. Никитин, регулярно получавший во время учебы в тылу от матери денежные переводы и посылки, 27 ноября 1943 г. теперь уже сам помогает одинокой женщине: «Мама, я тебе послал деньги – 1200 руб. Это моя зарплата за два месяца, себе оставил 140 руб. на уплату членских взносов да так кое-куда… И в следующие месяцы буду тебе посылать или же пришлю аттестат, мне здесь их некуда девать, а ты что-нибудь купишь» (1, 44).
«Продавай все, но чтобы деньги были. Без денег сидеть нельзя, они нужны для жизни. А вещи приобретем после» - решительно советует воин К.И. Моисеев своей матери 3 декабря 1943 г. (2, 225). А красноармеец М.Т. Экемекин в письме жене 1 мая 1942 г. деловито советует: «Марина, случайно, если будет подходить близко немец, то устройте убежище в таким виде, за вишнями: длина убежища 4,5 метра, ширина сверху 1,75 метра, снизу 1,25 метра, глубиной 1,5 метра и настлать потолок, покрыть землей, с одного конца проход» (4, 289).
На территории Германии стало полегче не только для быта советских воинов, но и их близких. Фронтовик А.В. Аляев 25 марта 1945 г. заботливо и деловито сообщает жене: «Настюш, я тебе послал посылку 5 килограмм (в общем, хорошие ботинки хромовые – мне хороши и тебе будут по ноге, ноги у нас с тобой одного размера). Еще я послал 4 метра белого материала и одну наволочку на перины. Хотел послать мыла и сахарку – было больше 5-ти килограмм, пришлось все это вынуть обратно (2, 435).
Полковник С.Г. Николаев в письме жене из-под Вены 10 ноября 1945 г. беспокоился: «Получили ли вы в посылке двое часов? Не поломались ли они? Доволен, что Оле подошло пальто. В следующий раз подробно пиши, что получаешь в посылке» (2, 484). А командир 136-го танкового полка, сформированного на деньги тамбовских колхозников, подполковник Шапарь, почему-то в секретном письме 24 февраля 1944 г. на имя первого секретаря Тамбовского обкома ВКП (б) И.А. Волкова просит «разрешения преподнести от танкистов танковой колонны «Тамбовский колхозник» подарок – 2-3 немецких сельскохозяйственных трактора…марки «Папотад»…» (2, 439).
Там, где дом, осталась надежда на возможную, но по обстоятельствам военного времени не успевшую состояться, любовь. Старший лейтенант А. Лагуткин 3 сентября 1943 г. писал своей любимой: «Будем твердо верить в нашу встречу. Ведь не всем же погибать на войне. Ты меня понимаешь? Поэтому не впадай в крайности и верь в нашу будущую встречу!» (1, 52). О том же мечтает и лейтенант Л.С. Шалаев в письме к любимой девушке от 23 мая 1944 г.: «Я надеюсь, что ты сохранишь эту любовь, и когда настанет тот час, когда мы встретимся с тобой, чтобы от той великой радости и счастья я бы мог взять тебя на руки, как дорогое достояние, и расцеловать, как любимую, дорогую подругу жизни» (4, 283). 1 апреля 1945 г. старшина А.И. Сазыкин пишет своей далекой возлюбленной: «…разрешите сообщить о том, что я когда уходил, прощались с Вами, у меня сердце ныло, и слезы навертывались. Так жалко было расставаться, как будто Вы меня приворожили, хотя Вы не верили, что я Вас люблю. Надя, еще раз напоминаю о том, что я Вам никогда не изменяю и в дальнейшем верным [буду], если Вы согласны, чтобы Вы были моей законной женой» (2, 437).
Там, где дом, там жизнь – тяжелая, голодная, но все же чем-то напоминающая довоенную и не такую опасную как на фронте. «Надюша, поздравляю тебя с окончанием десятилетки и желаю, если есть возможность, поступай в институт. Я тебе советую продолжать учебу, несмотря ни на какие трудности», - пишет своей сестре 15 июля 1943 г. лейтенант С.П. Емельянцев (2, 195). Санитар В.Н. Кожевников в письме к дочери 29 августа 1941 г. столь же трогательно заботлив о ее будущем: «Ты должна понять, что из детских лет ты вышла и следует взяться за ум как следует. Твое незаконченное образование ничего в жизни не даст. Надо не упускать момента и, пока есть возможность, пополнить его, получив какую-либо специальность, которая бы обеспечивала тебя в будущем» (1, 15).
«Без крови сражений не бывает», - меланхолически, но по жизненному точно определил автор одного из фронтовых писем трагическиe реальности войны (2, 420). Тяжелейшая миссия – сообщать родным и близким о гибели дорогого им человека. Иногда это делалось соратниками по оружие после предварительных подготовительных слов. «Любимый товарищ» погибшего фронтовика А.В. Аляева 12 июля 1945 г. так сообщает его жене о смерти своего друга: «Вы, Настюха, дорогая Настенька, спрашиваете меня, чтобы я Вам прописал подробнее про Вашего мужа Аляева Андрея Васильевича. Я Вам врать не намерен в том, что он мой любимый товарищ. Настюха, погиб он в боях за Родину прямо на моих глазах, а почему не сообщает долго военная часть, я не знаю в чем дело. Но ты нам поверь, как своему родному мужу. Я Вам врать не буду, Настя» (2, 436).
Письмо Героя Советского Союза В.Г. Тихонова и батальонного комиссара Шмелева вдове погибшего летчика В.И. Лахонина содержит перед сообщением о его гибели обстоятельный рассказ о боевых подвигах Лахонина и только после этого не столько извещает, сколько констатирует: «Все мы тяжело скорбим, не веря в то, что Вениамина Ивановича больше нет с нами, но каждый из нас приходит к одному и тому же знаменателю, что «война есть война» и она без потерь не обходится… Памятуйте о том, что «лучше быть вдовой героя, чем женой труса»» (2, 33).
«Фронтовая дипломатия» просматривается и в письме командира роты Т.Я. Сергиенко в действующую армию отцу погибшего красноармейца В.В. Грязнова: «Здравствуй, дорогой отец Василия Грязнова! Прими массу наилучших пожеланий в Вашей красноармейской жизни, желаем Вам побыстрей окончить эту войну и счастливо возвратиться на родину. Данным письмом я хочу Вам известить весьма неприятную новость, а именно: Ваш сын, как взрослый мужественный герой, сражался с фашистскими захватчиками, он был верный до конца воинской присяге. 13 марта 1945 года пуля немца оборвала ему жизнь… На этом заканчиваю свое печальное письмо» (4, 92).
Командир некоего подразделения А.Т. Лисунов начинает свое письмо сестре погибшего бойца А.Г. Попова с пожелания «наилучших успехов в Вашей дальнейшей молодой жизни», а далее продолжает: «Маруся, но наша жизнь, по-видимому, Вам известна. В настоящее время находимся на территории Германии. Вот наши, в основном успехи. Маруся, но в основном, что я хочу Вам в своем письме сообщить, это печальную весть о Вашем брате. Ваш брат в боях за Родину погиб 6.10. 1944 года. А пока до свидания…» (2, 407). И это все - без слов сочувствия, без хотя бы какого-то намека на обстоятельства смерти. Суровое время, фронтовая жизнь, вероятно, цензура не всегда позволяли тратить время на сантименты.
Но в письме Лисунова был хотя бы предварительный заход с неким психологическим подтекстом. А вот, например, похожее на удар молота по наковальне сообщение безвестного командира подразделения морской разведки матери погибшего на Ораниенбаумском плацдарме разведчика И.Н. Семенова от 5 июля 1943 г.: «Дорогая мать, мне очень трудно писать эти слова, ваш сын Семенов Иван, а мой друг и боевой товарищ, с которым вместе мокли под холодным осенним дождем, вместе мерзли в суровые декабрьские ночи в окопах, с которым радость и горе делили пополам, он, Ванюшка-орденоносец, погиб» (1, 24-25).
Письмо фронтовика Н.Д. Рязанова подруге своего однополчанина П. Журавлева - В. Галкиной беспощадно своей суровой обыденностью: «Отвечаем на Ваш запрос. Ваш друг и знакомый Журавлев Петя погиб смертью храбрых в борьбе за советскую Родину против фашистских захватчиков 4.04.45 года. Был у нас в части п.п. 35617» (2, 411). Даже оправдательное «смертью храбрых в борьбе за советскую Родину» и почти ласкательное «Петя» не оправдает страданий безвестной Галкиной после получения такого письма. Письмо В. Дубинина, однополчанина погибшего Я.И. Яковлева, его вдове после сообщения о смерти и вовсе советует женщине: «Конечно, переживать не следует. Нужно учесть, что сейчас война с презренным германским фашизмом не на жизнь, а на смерть» (2, 104).
Но все же не все «похоронки» были столь суровы, особенно когда их писали женщины-сослуживцы. Е.П. Подшибякина в письме к матери погибшего фронтовика В.П. Савиных от 27 августа 1943 г. смогла найти слова соболезнования и даже сообщить детали гибели своего товарища: «Здравствуйте, дорогая, незнакомая мамаша Володи Савиных! Хотя и неприятная новость, но все же приходится сообщить. Сегодня, 27 августа в 10.20 ч. от вражеской пули скончался Ваш сын Володя… Весь наш коллектив искренне сожалеет Вам о потере такого хорошего сына. Не беспокойтесь, дорогая, не волнуйтесь и не расстраивайтесь. За него мы отомстим врагу!» (2, 121-122).
«Некоторые подробности» о гибели танкиста Б.В. Асафьева сообщил в письме к его сестре в апреле 1943 г. его командир майор Нагорный, закончив его следующим образом: «Наша жизнь дорога, мы отомстили в тот день за Бориса, каждый день мстим за поруганный народ, за Родину. Потеря тяжела для Вас и родственников. Борис заслужил уважение перед Родиной, и Вам надо гордиться им»(2, 127).
Боевой товарищ комсорга полка А.М. Ильякова - А. Серегина писала его отцу 3 января 1944 г.: «Матвей Иванович, то, что я хочу Вам сообщить – это и для Вас и для меня большое горе. Ваш сын Леша был тяжело ранен в правое бедро… Наши врачи, как ни старались спасти ему жизнь, [не смогли], все же смерть в этом случае оказалась сильнее. Дорогой Матвей Иванович, с Лешей мы были хорошими товарищами…, и я знаю, что Вам это горе перенести очень трудно, но что же, дорогой, ведь ничего не поделаешь» (4, 122).
Дух жертвенности, мщения и фатализма, особенно в первые месяцы войны, пронизывает многие письма фронтовиков. Герой Советского Союза летчик В.И. Лахонин в письме жене 23 сентября 1941 г. сообщал: «За совет бить хорошенько фашистских гадов – спасибо. Бьем их, дорогая, и будем бить. Если нужно будет, отдадим жизнь, но не дешево» (2, 31). Рядовой Е.И.Жуков в письме к родным 1 мая 1942 г. обещал: «Я вспоминал, что у меня нет больше брата Феди, что я больше не увижу его. Да… Жалко и жалко. Но ничего не сделаешь. Пускай и я погибну на фронте, но я отомщу немецким гадам за своих братьев» (2, 68). Командир минометной роты Н.Н. Аршинов 18 июля 1942 г. обещал своей жене: «Основное, моя дорогая, не думай, что я струшу перед врагом и что покрою тебя позором. Мои традиции – умереть, не отступая, и я показал себя в боях неплохо» (4, 27).
Известный приказ Сталина «Ни шагу назад» пулеметчик В.П. Назаров в письме к родственникам 5 августа 1942 г. прокомментировал так: «Сейчас до последней капли крови следует отстаивать каждую пядь родной земли, и, кто будет отступать, - боец ли, командир ли – будет расстреливаться своими как изменник Родины… враг забрал уже немало нашей территории, а вместе с этим и населения…Теперь одно: иди вперед, пусть погибнешь, но честно, иначе как трус же будешь убит своими же товарищами» (4, 191).
Рядовой минометчик Л.Ф. Мухачев в июльском 1942 г. письме отцу отмечал: «В жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к Родине, а поэтому умру, но допускать врага не стану!» (3, 389). Сержант С.А. Кошелев в письме к родным от 20 июля 1941 г. свое состояние передает следующим образом: «Жизнь моя сурова. Война с Германией проходит в ожесточенных боях на всем фронте Запада. Что ожидает в моей жизни будущее, трудно сказать. Об этом подскажет судьба моей жизни» (2, 36). Сержант И.И. Бобров в сентябрьском 1942 г. письме к родителям общее состояние фронтовиков передает следующим образом: «Здесь жизнь считают минутами, она измерена шагами» (1, 33).
Философия фатализма иногда сопровождалась предчувствием неизбежной гибели, о чем с беспощадной откровенностью нередко фронтовики сообщали своим близким. Очень характерны в этом смысле письма гвардейца П.Ф. Силантьева своим жене и детям (пропал без вести). 2 марта 1943 г.: «Возможно, и придется мне вернуться домой, то всю жизнь исправим. Но если меня здорово покалечит, то я оставлю себя на вечный покой, чтобы вы на меня не казнились» (2, 171). 25 апреля 1943 г.: «Если судьба наша с Вами увидаться, то увидимся, а если где у меня на роду написано умереть, то ничего не сделаешь. Но я предчувствую, что я домой не вернусь, и останется у Вас с детками одно воспоминание обо мне, а у меня на сердце замрет навечно скорбь и любовь о Вас» (2, 173). 7 мая 1943 г.: «Наверно, Люсенька, нам больше с вами не придется увидеться. Останется у вас воспоминание обо мне, а у меня в сердце замрет навечно любовь к вам» (2, 174). 27 июля 1943 г.: «Люсенька и Боря, Юра, пока прощайте. Наверно, что это мое письмо последнее – я предчувствую. Прощайте, любимые» (2, 178).
Красноармеец И.Г. Гвоздев, находясь в осажденном Сталинграде, 30 октября 1942 г. писал своим близким: «Тятя, спасаться здесь очень трудно. День и ночь бомбят и бьют из миномета. Живым на этом фронте остаться трудно. Тятя, наверно, я здесь погибну за Родину, за наш Сталинград… Вряд ли увижусь с вами…» (4, 85).
Неожиданны и причудливы оказывались фронтовые судьбы. Рядовой В.В. Рябинский, в мирное время учитель русского языка, разумеется, имел все основания в боевых частях занять должность писаря. Но был назначен санитаром. Успокаивая жену и сына 14 августа 1944 г., он писал им из-под Каунаса: «Наша обязанность будет подбирать раненых после боя и доставлять их куда надо. Мы недалеко от фронта – в 10-15 км, обо мне не беспокойтесь, санитаром быть неопасно» (2, 414). Как бы не так. Война не щадит и санитаров. И уже 25 августа 1944 г. Рябинский сообщает жене и сыну: «Пишу левой рукой, потому что ранен в правую руку осколком. Рана большая, пальцы и кости не повреждены… Осколок вынули, вчера была вторая операция, зашили рану… Сколько мне пришлось пережить, побывав там: мы были в 5 км от Восточной Пруссии, я работал санитаром, и вот на 3-й день меня ранило» (2, 415).
Жизнь страны военного времени, конечно же, была подчинена условным и в еще большей степени вполне официально закрепленным нормам. Они были жестоки и оправдывались только одним – победой. Она наступила и фронтовые письма полны ликованием. «Я» - победитель и «мы» - победители в письмах переплетаются в невообразимое личное и коллективное торжество. Красноармеец В.П. Грязнов 13 февраля 1945 г. обращался к своим близким: «За прошлые бои мне вынесена благодарность, которую я посылаю в этом конверте. Прошу дедушку сделать [рамку] и вставить, пусть смотрят мои товарищи, которые дома, что я есть освободитель и мститель за наших родных и знакомых, которые погибли на фронте и насильно угнаны на фашистскую каторгу в Германию» (4, 91).
Но в письмах воинов-победителей – радость не столько по поводу поверженного врага – это уже было пережито на дорогах Европы ранее – сколько остро осознаваемое, реальное, скоро состоящееся возвращение домой. Красноармеец Н.М. Ястребцев, находясь под Берлином, 10 мая 1945 г. писал жене: «Здесь уже давно настоящая весна. Отцветают яблони и вишни, цветет сирень, ландыши. На лугах уже большая трава. Но все же это не то. Родина хоть немного и бедней, но милей… Здесь все как-то не то…Скорее бы, скорее бы в Россию» (4, 296).
Артиллерист В.П. Савиных в письме жене 11 мая 1945 г. сообщает: «Радости, конечно, нет предела. Сейчас ведь Родина стала совсем близка. Скоро, конечно, будем в России. В нашей любимой Родине. И справлять Победу. Все прожитые невзгоды уже позади. Сейчас можно справедливо отдохнуть. Гнет войны мы сбросили с плеч. Сейчас счастливая мирная трудовая жизнь – жизнь еще неувядшей молодости, полной всевозможных желаний во всех отношениях» (2, 476). А старшина А.И. Сазыкин, познакомившийся во время войны со своей возлюбленной по переписке, 17 мая 1945 г. в письме обещает: «Теперь насчет нашей встречи с тобой навсегда. Конечно, я сильно желал бы сейчас повидаться и поговорить с тобой, но не предоставляется пока возможности. Будет возможность, постараюсь приехать, или же будет командировка, заеду. Но сильно хочется повидаться с тобой. Кажется, сейчас поговорил с большой радостью. Но ничего, скоро будет встреча» (2, 478).
Поразительный факт: в неофициальных, личных письмах с фронта практически отсутствует партия, разве что так – мимоходом, да и то в основном официальным адресатам. Нет в них места и Богу. Подсознательно, вероятно, авторы фронтовых писем отразили величайшую жизненную реальность: старый Бог был вытравлен безбожной властью, новый бог – партия, а вместе с ней и ее воплощение в лике вождя – так и остался не принятым в подсознательном, самом искреннем. И это – не у единиц, а у тысяч.
Из-за цензурных условий фронтовые письма бедны в описании повседневности войны, тем более тактики и стратегии боевых действий. Но все же и в них, сквозь сито военной цензуры, проскальзывали детали фронтовой жизни. Красноармеец В.А. Гордин, оборонявший некий остров в Балтийском море, 1 августа 1941 г. сообщал отцу свое понимание разворачивавшихся военных действий: «Папа, у нас был очень слабый тыл, много враждебных элементов, были случаи, они делали покушения на наших бойцов, находили у них пулеметы и очень много винтовок» (4, 89). Рядовой С.И. Бобров в письме к родственникам 7 декабря 1941 г. сообщал: «Нас еще не обмундировали, только дали мне ботинки да обмотки, так как сапоги изорвал вдрызг. Ну, а каково ходить и заниматься на улице при таком морозе в ботинках, когда нет шерстяных носков?» (1, 47). Политрук Н.С. Клочков приблизительно в это же время оказался в лучшем положении, сообщая 23 января 1942 г. своим родственникам: «Одет я тепло: хорошая шуба, шинель, ватные куртка и брюки, новые валенки и теплые рукавицы. Морозы у нас стоят крепкие – 35-38 градусов, но они нам нипочем» (1, 55).
Гвардеец-минометчик Л.Ф. Мухачев 22 октября 1942 г. сообщал родителям: «1. Питание сверхотличное. Кушаем сало свиное, бекон, мясные, рыбные консервы. Часто получаем английские и американские консервы (мясные). Консервы очень хорошие, вы такие не кушали. Овощи: капуста, свекла, морковь, картошка. Жиры – английский жир, комбижир, маргуселин, сливочное масло. Подумаете, что я обманываю..! Нет, это правда, нас, фронтовиков, так и кормят, зато вам – норма, а нам – «от пуза». Видите, как нас любит страна» (3, 392).
С ним спорит письмо сержанта В.Е. Денисова своим близким от 15 января 1943 г.: «Я имел очень большое счастье получить от вас посылку 14 января 1943 г. – фанерный ящик. В посылке оказалось пол-литра меда, одна тетрадь и сушеные лепешки, получил 14 января и покушал» (4, 98). Письма Мухачева, сына ленинградского чекиста, эмоциональные и живые, вообще оказались богатыми на детали не только фронтового быта, но и реальных боевых действий. Уже упоминавшийся Клочков 7 февраля 1945 г. сообщал жене в письме, написанном в доме небольшого немецкого городка в Восточной Пруссии: «Конечно, дом пуст, хозяева его поспешно бежали, и теперь в нем хозяйничаем мы. Жарим кур и гусей, телят и поросят, пьем чай с медом, сахаром и вареньем, иногда заливаем за воротник вино, взятое из немецких подвалов… Обещают разрешить числа 11-го февраля послать посылку в 10 кг., но не всем» (1, 61).
Рядовой м.М. Енин в письме к родным от 11 февраля 1945 г. сообщал: «Нахожусь на территории Германии, где, наконец, немцы почувствовали, что такое война. Точно как у нас в 1941 г., но еще хлеще – все они бросают. Как везут по дорогам, так и остаются перины, пух и все барахло. Куры, гуси, коровы бродят без хозяев. Все мне напоминает то, как мы эвакуировались, но здесь некому тащить, все лежит!» (1, 430).
Не часто, но в письмах прорываются суровые реалии войны. Красноармеец-автоматчик С.И. Власенко в письме жене 2 марта 1942 г. приоткрыл одну из них: «Нашему отряду даны широкие полномочия. Так, например, если мы устанавливаем, что красноармеец ушел с фронта, старается увильнуть от атаки – словом, если он дезертировал, наш отряд имеет право расстрелять такого бойца без суда, да и как иначе поступать? Люди дерутся, льют кровь, умирают, а есть паразиты, которые увиливают и стараются скрыться…» (4, 74). Он же в другом письме сообщал: «Вот, например, вчера почти все ходили в разведку, я остался дома, при уходе многие бойцы оставили мне адреса, кошельки, хорошие вещи с просьбой, если убьют, отослать деньги семье. Как-то печально все это переживать, грустно провожать ребят» (2, 76).
Иногда в письмах проскальзывали картины реальных боев. Офицер Н. Волков, сообщая 15 марта 1943 г. родителям погибшего красноармейца И. Косарева, писал: «Я Игоря до боев не видел, но я видел сам, видели многие сотни бойцов в тот момент, когда была критическая минута напряженного боя. Он хлестал автоматным огнем по немцам. После налета авиации противника и после отбитых атак врага, мы нашли его. Он был весь в масле танка, маскхалат в кое-каких местах прогорел. В руке был ремень автомата, вернее сами щепки от оружия. Изрытая артиллерийским и бомбовым ударом земля была не белая от снега, наоборот, в воронках, гарью покрыта была мертвая земля» (4, 142). Как бы не сомневаться в описании героической смерти Косарева, ее детали – масло от подбитого танка на теле бойца, прожженный маскхалат, расщепленный приклад автомата – детали, которые придумать очень трудно.
Старший лейтенант И.В. Мартюшин, оборонявший на Сталинградском фронте переправу через Дон 5 августа 1942 г., рассказывал своим родным: «Если первые дни был страшен пролетающий самолет, то теперь идем в щель только тогда, когда бомба свистит, и то смотрим, упадет ли она поблизости» (4, 160). Или вот свидетельство о деталях войны, вряд ли запечатленное в официальных документа, радиста-фронтовика Ф.Д. Хоркина: «Вчера мы наблюдали с шестиэтажного дома западный берег Вислы, и что же? Эти изверги, сволочи, насильники кровожадные, и не знаю, как их еще обозвать, нелюди, эти немцы. Вводят гражданских: молодежь, стариков, детей нарочно, чтобы видели наши части на восточном берегу Вислы, и расстреливают, трупы падают в воду» (4, 272).
Авторы фронтовых писем в своем подавляющем большинстве явно не современные и будущие историки. Осознавая опасность для страны гитлеровского нашествия, понимая масштабы происходящих событий, они не стремятся быть ее летописцами. Поэтому оказываются поразительными исключения из этого ряда – те фронтовики, которые вели дневники. А то и вовсе, как например, будущий известный историк-архивист В.В. Цаплин, разработавший целую программу собирания «устных свидетельств» о войне, озабоченные сохранением памяти о войне (РГАЭ. Ф. 777. Оп. 1. Д. 148. Л. 61-62).
Итак, личные фронтовые письма при их внимательном чтении оказываются наполненными переливами чувств и многоголосием мыслей и мечтаний их авторов. За внешней невзрачностью, сухостью, строгостью и торопливостью их строк скрывались людские души беспокоящихся отцов, заботливых сыновей и дочерей, влюбленных воинов, людей, тоскующих по дому. В большинстве писем нет ничего героического, в них преимущественно отражается повседневный ратный труд, чуждый риторическому описанию. Война как обычная работа, только с постоянной угрозой для жизни, война без страха, война, ставшая привычным делом, приучившая к мысли о возможной гибели, война людей, оскорбленных за большую и малую Родину и жаждущих отмщения – такой представляется Великая Отечественная война из личных фронтовых писем ее участников. И даже если не хочется впадать в пафос, сделать это чрезвычайно трудно, потому что невозможно избавиться от этого образа, образа не просто человека на фронте, фронтовика, а образа Российского Воина, буднично, по- хозяйски, как до войны дома за станком или с мотыгой, а теперь с оружием защищающем Отечество.
Две другие разновидности фронтовых писем, за небольшим исключением, разительно отличаются от личных фронтовых писем. Исключение это связано с тем, что звание воина-фронтовика давало основание быть требовательным к местным властям в оказании помощи родственникам. Писем-просьб, писем-требований, писем-защит с фронта в партийные, советские органы, в райвоенкоматы, в редакции газет очень много. Через них мы узнаем штрихи той жизни, которую приходилось переживать в тылу близким фронтовиков. Например, санитарка А.В. Щербакова, добровольно ушедшая на фронт, в письме на имя секретаря Сосновского райкома ВЛКСМ Тамбовской области от 1 апреля 1944 г. просит оказать помощь своей матери: «сейчас наша мать одна, у нее хозяйство. И что же ее заставляют все это бросать на произвол и идти работать, так как ее осудили и дали 4 м[есяца] принуд[ительной] работы за то, что она не работает, к тому же платит все налоги» (2, 466). Сложно судить о том, насколько эффективны были такие фронтовые обращения к местным властям. Но на некоторых письмах имеются различные резолюции с поручениями разобраться по существу с поставленными в таких письмах вопросами.
В своем же подавляющем большинстве эти разновидности фронтовых писем отличаются своей «правильностью», согласованностью с официальной пропагандой. Пронизывающая их риторика, неизменно героическая, не обходится без упоминания партии, Сталина, описания боевых побед, призывов трудовыми подвигами крепить единство фронта и тыла. В этих разновидностях фронтовых писем совсем иная война – тревожная и торжественная, исключительно героическая, победоносная, не с человеческим, а с коллективным лицом. Такие письма были рассчитаны и на коллективного читателя и слушателя.
Нет сомнения, что и фронту, и тылу были нужны и эти письма. Напоминание о фашистских зверствах рождало чувство мести, сообщения о победах поддерживало веру в окончание войны. Идея единства фронта и тыла была понятна и дисциплинировала людей. Что же касается риторики и пафоса таких писем, то кому-то они были близки, кому-то просто привычны, а кто-то на них не обращал внимания, черпая что-то более важное для себя. Это был тоже разговор фронта и тыла.
Формально фронтовые письма, как и личные письма вообще, можно отнести к коммуникативному типу документов. Это не что иное как «весточка» с фронта, прежде всего сообщение о том, что человек жив, ранен или убит, физический знак родным, близким, землякам о его состоянии на войне. Однако для авторов писем и их адресатов письма, несмотря на их часто внешне малосодержательный характер, означали не что иное как молитву, т. е. обращение фронтовика к некоей сверхъестественной силе. Что за сила была в этом обращении? Кажется, ее можно назвать Надеждой, Мечтой, которые были не чем иным как Верой в Победу. Именно эта сила постоянно присутствует или подразумевается в письмах. С ней фронтовики связывают абсолютно все свои помыслы, которые есть не что иное как просьбы-мечты о будущем и в будущее. Ей они измеряют свою судьбу на войне. Ей они поклоняются, ее восхваляют, ее благодарят.
Написание письма, его прочтение в тылу были своеобразными ритуальными действиями. И понятно, почему фронтовые письма были фактически молитвами. В СССР как атеистическом государстве, на фронте и в тылу Бога почти не было, он был допущен туда лишь чуть-чуть больше, чем до войны, и он вращался в сфере политики, а не во фронтовом бытии – туда он не был допущен.
Фронтовые письма были легальным преодолением запрета на молитву Богу, они заполняли духовный вакуум, и дополняли беседы с воинами политработников желанием простого человеческого общения авторов писем. Старшина В.А. Швычков 2 октября писал своей жене: «Оба письма, что я получил от вас – я их берегу. И еще берегу на память – Нина собирала мне листочки от численника для курева – я их берегу в конверте. Иногда, время от времени, я их вынимаю и смотрю, и вспоминаю своих деток» (4, 285). Почти как воины дореволюционной России, которые хранили в ладанках молитвы, подаренные близкими.
Духовная терапия, неизбежно присутствующая при вознесении молитвы, составляла суть и фронтовых писем. Она имела двойной результат и для авторов писем, и для их корреспондентов. Она воодушевляла и тех и других Верой, Надеждой, Любовью, которые возвышались над страхом быть покалеченным или убитым на фронте, над невзгодами в тылу. Над всем тем, что нормальным человеком воспринимается как ненормальное – над ужасом, порождаемым войной. «Молись и молись, мама, обо мне, дай нищему горячий пирог и хлеб и стакан молока за меня», - просил красноармеец И.П. Стенькин свою мать в ноябре 1943 г. за несколько дней до гибели (4, 251).
Постскриптум автора статьи. Фронтовые письма Великой Отечественной - как птицы, которым не случалось долетать до гнездовий. Не долетали и фронтовые письма до адресатов в прямом смысле этого слова. А в символическом – не возвращались домой их авторы. Авторы большинства процитированных писем-молитв погибли. Не претендуя на истину, я попытался донести не только их молитву, молитву об их мечтах, жизни и судьбе, Родине большой и малой, но и нашу теперешнюю молитву в память о них и в назидание нашей сегодняшней жизни.
Kozlov V.P. Front letters 1941-1945 as prayers
Аннотация / Annotation
Статья посвящена научному анализу содержания фронтовых писем – важнейшего источника правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Профессиональному историку понятно, где искать их сохранившиеся острова и даже, может быть, материки, либо хотя бы «следы» этих документальных островов и материков, безжалостно топившихся волнами военной безопасности и идеологической осторожности и в годы Великой Отечественной войны, и позднее.
Article is devoted the scientific analysis of the maintenance of front letters - the major source of the truth about the Great Patriotic War 1941-1945 to the Professional historian it is clear where to search for their remained islands and even, maybe, continents, or at least “traces” these documentary islands and the continents, ruthlessly burning waves of military safety and ideological care and in days of the Great Patriotic War, and later.
Ключевые слова / Keywords
Источник, источниковедение, документ, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., фронтовые письма. Source, source study, the document, the Great Patriotic War 1941-1945, front letters.
 .|
.|