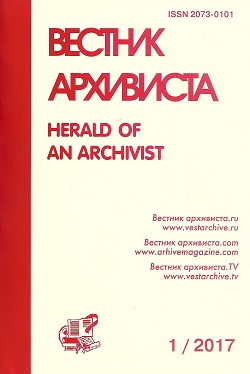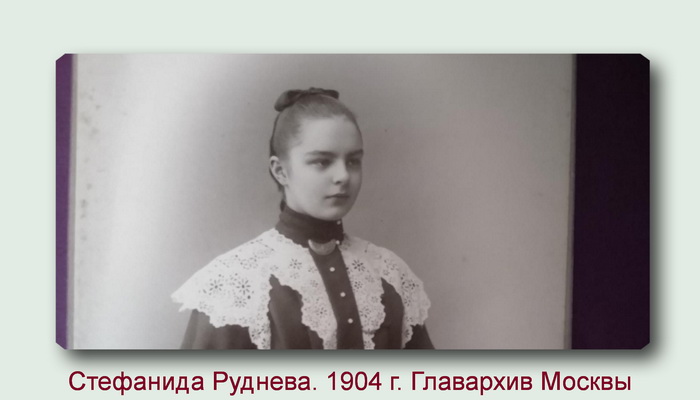Государство и личность в русской интеллектуальной истории. История понятий как форма социальной критики



| 20 Мая 2010
26 мая 2010 г. на философском факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова состоится открытый семинар Центра политической теории Института общественного проектирования.
С докладом на тему «Государство и личность в русской интеллектуальной истории. История понятий как форма социальной критики» выступит Николай Плотников (Русский университет Бохума, Германия). Содокладчики: Виталий Куренной (ГУ-ВШЭ) и Александр Бикбов (МГУ).
Ведущий семинара – главный редактор журналов «Логос» и «Пушкин» Валерий Анашвили.
В дискуссии примут участие ведущие политические философы, социологи, политологи, общественные деятели, преподаватели московских вузов, аспиранты и студенты.
Место проведения открытого семинара: новый корпус гуманитарных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова по адресу Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, этаж 3, сектор «А», ауд. 307-308 (ст. м.«Университет»).
Материалы к докладу Николая Плотникова «Государство и личность в русской интеллектуальной истории. История понятий как форма социальной критики» прилагаются к настоящему приглашению.
Государство и личность в русской интеллектуальной истории.
История понятий как форма социальной критики
(Предварительные замечания к докладу)
Николай Плотников (Рурский университет Бохума)
1. Язык традиции и поиски «нового языка»
В постсоветский период мы все чаще встречаем в текстах и публичных выступлениях философов и философствующих интеллектуалов один весьма характерный риторический прием, с помощью которого описывается нынешнее состояние культурного сознания. Таким приемом является констатация недостаточности, «нехватки» и даже «отсутствия» языка, способного артикулировать новые формы самосознания и самоописания в современной ситуации.
Все эти констатации сходятся в диагнозе «изношенности» философско-гуманитарных понятий, выработанных прежней интеллектуальной традицией, и их неспособности выразить набор ощущаемых изменений, которые как раз и мотивируют к поиску новых форм самоописания. А будучи к тому же пронизаны и энергией противостояния – будь то поколенческого, идеологического или политического – этой традиции (прежде всего в ее позднесоветском варианте), такие сетования выливаются в требование «нового языка», призванного утвердить в правах идейную формацию, сложившуюся на обломках советского прошлого и идеального образа досоветской «старины».
В качестве реакции на ощущение «израсходованности» языка можно, однако, наблюдать преимущественно лишь две стереотипные стратегии поиска, весьма хорошо известные из русской интеллектуальной традиции. Это либо заимствование готового понятийного аппарата, выработанного западной философской дискуссией, причем идеологический вектор подобного заимствования не играет существенной роли – адепты евразийства и консервативной революции столь же активно ассимилируют соответствующее «западное наследие», сколь и либералы в поисках новых форм артикулирования идентичности.[1]
Альтернативная стратегия предлагает приобщиться к понятийным сокровищам языка Московской Руси, не искаженного европейскими наслоениями Нового времени. (Такова интеллектуальная стратегия В. Найшуля, предъявленная в виде «Букваря городской Руси»[2] с изложением концептов «Царь», «Держава», «Царство», «Околоток» и др.). То, что источником для таких анахронических экспериментов служит, как правило, Словарь В. Даля и его же собрание пословиц – т.е. типичнейший продукт новоевропейского позднеромантического превознесения национальной самобытности – нисколько не смущает поклонников русской старины.
2. «История понятий» как рефлексия философского и политического языка
Впрочем, схватки «архаистов» с «новаторами» всегда составляли неотъемлемый элемент развития философского языка, уравновешивая в нем меру своего и чужого. В них, однако, недостает исторической рефлексии, что обрекает всякий «новый язык» на еще более короткий период полураспада, нежели наличный языковой пласт интеллектуальной традиции. Недостает той критической рефлексии языка, что позволила бы рассмотреть и понять собственное словоупотребление в ретроспективе исторической динамики, и обнаружить спектр реализованных и нереализованных смысловых возможностей, который только и формирует историческую глубину понятийного состава современности.
История понятий, как способ философского и исторического исследования, является одной из форм такой рефлексии философского языка. Ее методологическая эффективность заложена в стремлении рассмотреть глобальные идеологические и мировоззренческие противостояния в виде различия понятий, употребляемых в этих противостояниях, и увидеть исторические трансформации того, общего «словаря» философских понятий, что используется для выражения и обоснования самых непримиримых позиций. Тривиальное соображение, что для изложения своих взглядов даже самые мистические и интуитивистские учения вынуждены использовать язык и определенный набор философских понятий, открывает, поэтому, для исследователя весьма богатую перспективу, а именно – единое поле анализа, позволяющее рассматривать идейные, социальные и культурные противоположности, исторические изменения и разрывы в форме языковых и концептуальных различий. В этом смысле «история понятий» – это не какая-то всеобъемлющая методологическая парадигма, а скорее установка исследования, ориентированного на эмпирическое фиксирование результатов «идейной работы» в языковых значениях и на рефлексию исторической трансформации последних.
Базовой предпосылкой исследования истории понятий является по существу Кантовский тезис о том, что всякий опыт, заслуживающий называться таковым в отличие от мимолетных впечатлений, необходимо опосредствован понятиями и, шире, фундаментальными языковыми различиями. Уточнение этого Кантовского тезиса внесла герменевтическая философия (со времен В.Дильтея), показавшая, что основные понятия или категории, с помощью которых конституируется всякий человеческий опыт, будь то в науке, или в жизненном мире, являются не статически априорными, а исторически изменчивыми. Глубинная грамматика человеческого сознания и коммуникации не задана раз навсегда, но претерпевает историческую эволюцию. И как раз исследование семантических трансформаций основных понятий, формирующих культурный опыт, позволяет проследить характер и направления этой эволюции.
С осознанием потребности найти способ исторической рефлексии актуального языка и связана возможность, и даже необходимость истории понятий как методологической альтернативы господствующим формам историографии. Смысл этой альтернативы может быть прояснен в трех аспектах:
Во-первых, в фокусе внимания истории понятий находится вопрос о семантических трансформациях. При этом исследуется не столько то, когда возник тот или иное понятие (хотя уже такая работа на уровне истории слов дает важные указания на эволюцию философского и политического дискурса), сколько то, как переформатируется в возникающих новых понятиях система теоретических различий, и как изменяется артикулируемая этими различиями структура и конфигурация проблем. Смысл исторического здесь как раз и состоит в том, чтобы увидеть и понять самостоятельную динамику дискурса, фиксируемую в изменении значений, способов и контекстов употребления понятий. Связь слова и понятия, полагаемая в основание историко-понятийного исследования, дает руководящую нить для понимания имманентной историчности философского дискурса, как бы они ни был связан с политическим, литературным, религиозным и прочими прилегающими к нему дискурсами, и даже зависим от них.
Во-вторых, история понятий позволяет отказаться от редукции философского дискурса к социальным и биографическим факторам, как бы ни тяготели сами участники философского сообщества к самоистолкованию в таких редукционистских формах. Ее методологический смысл аналогичен программе «истории искусств без имен» Г. Вельфлина («Kunstgeschichte ohne Namen») и может быть, поэтому, назван «историей философии без имен»: личность философа предстает в перспективе истории понятий как понятийно-аргументативная конструкция, вовлеченная в силовые линии философского рассуждения помимо индивидуальных интенций автора.
Наконец, в-третьих, история понятий позволяет осознать ту историческую дистанцию, что отделяет современный язык – язык исследователя – от языка источников. Благодаря рефлексии этой дистанции мы в состоянии избавиться от той мифологической фигуры «возвращения наследия» и «продолжения традиций», в которую облекалось введение в оборот русских философских текстов в постсоветскую эпоху. Мифологической постольку, поскольку она создавала иллюзию, что возможно отменить ту временную и смысловую дистанцию, которая отделяет нас от этого наследия. И в этом отношении «история понятий» выполняет функцию не только описания, но и критики понятий, раскрывающей их имплицитные мифологические и идеологические предпосылки.
Поэтому можно заметить, что «нехватка языка» представляет собой не только помеху, но и продуктивную философскую ситуацию, свидетельствующую о потребности прервать автоматизм прежнего употребления понятий и найти новые формы концептуализации сознания и культурного опыта. Но продуктивной эта ситуация сможет стать не сама по себе, а лишь на основе исторической критики и рефлексии прежнего строя понятий, на основе сознательного «остранения» прежнего языка философии с тем, чтобы сделать возможными новые формы артикуляции смысла. Без этой работы рефлексии, частью которой является и «история понятий», культура так и останется обреченной на философское «безъязычие».
3. Семантические модели «личности» в интеллектуальной истории
В нижеследующем я попытаюсь проиллюстрировать эти соображения по поводу истории понятий примерами из анализа семантики понятий личность и государство в русской интеллектуальной истории культуры.
Какие же тематические аспекты можно выделить в истории этого понятия?
Для ответа на этот вопрос воспользуюсь схематическим различением трех типов понимания личности, разработанных в эпоху Нового времени в процессе секуляризации проблематики христианского богословия и возрождения римского права. Я обозначу эти типы как «автономия», «идентичность» и «индивидуальность». Данные типы намечают скорее общие тенденции употребления понятий и могут вступать в разнообразные комбинации в работах отдельных авторов. Тем не менее, их различение как самостоятельных типов имеет эвристическую ценность, поскольку они задают различные наборы признаков понимания личности. Можно зафиксировать также, что данные наборы признаков коррелируют с рядом других семантических полей (свободы, собственности, сознания и др.) в области права, искусства, психологии или политической теории, т.е. что они задают когнитивную рамку структурирования культурного опыта.
Модель «автономии», содержание которой ассоциируется с именем Канта, задает понимание личности как абстрактного свойства человека быть субъектом своих поступков. Причем здесь в рассмотрение принимается не отдельный индивид как таковой, но любой индивид, поскольку он способен полагать в основу своих действий универсальные законы практического разума («человечество, как в твоем лице, так и в лице всякого другого»[3]), или человек как «разумное существо», поскольку именно в возможности действовать в соответствии с моральным законом человек проявляет себя как «субъект свободы». Это абстрактное свойство «субъектности» в отношении своих действий означает также, что личность и только она является субъектом вменения и ответственности.
Модель «идентичности», впервые подробно развитая Локком[4], фокусирует понимание личности на другом аспекте. Здесь личность – это постоянство пребывания в изменяющихся состояниях сознания, гарантируемое рефлексивным единством памяти. Лишь сознание обеспечивает единство личности, поскольку только посредством рефлексии в сознании я могу обратиться к своим прежним ментальным состояниям и идентифицировать их как принадлежащие мне. Иначе говоря, личность – это способность приписывать себе свои прежние состояния как принадлежащие одному и тому же сознанию и памяти (отсюда – «тождество»).
Наконец, третья модель понимания личности – «индивидуальность» – восходит к монадологии Лейбница, но наиболее популярную для современности формулировку получает в немецком романтизме. Центральный мотив в ней составляет идея независимости и неповторимости творческого индивидуума. Личность здесь – тот, кто непохож на других, кто создает себя актом творческого самоопределения и различия, достигая тем самым подлинно индивидуальной жизни. Личность – не общее свойство разумной природы человека, равное для всех, и не структурная характеристика всякого сознания, а неповторимое отличие одного человека от других.
Если теперь в контексте предложенных типов понимания персональности, возвратиться к поставленному выше вопросу о тематических приоритетах в русской истории понятия личность, то можно высказать гипотезу, что таким приоритетом является в подавляющем большинстве случаев именно тип «индивидуальности» со всей его внутренней диалектикой обостренного персонализма и столь же радикального антиперсонализма. Другие типы понимания и выражения персональности выступают в истории понятия личность в русском языке как маргинальные вкрапления, не изменяющие основную доминанту.
4. Государство как перманентное «чрезвычайное положение»
Хотя понятие «государство» в русской интеллектуальной традиции формируется в процессе петровской европеизации под воздействием западных политических теорий, споры о том, сравнима ли семантика этого понятия с западноевропейскими аналогами, ведутся до сих пор. Очевидные сложности такого рода сравнений мотивировали французского историка Алена Блюма задаться вопросом «Следует ли забыть государство, чтобы понять Россию?»[5].
Принимая во внимания результаты сравнительных исследований, целесообразнее говорить о «трансплантированной» семантике. Под этим подразумевается то, что понятия формируются в процессе модернизации в модусе сознательного заимствования. А это создает новые эффекты, отсутствовавшие, как в наличных культурных традициях, так и в заимствуемых культурных образцах. Именно такого рода эффекты можно наблюдать в ходе формирования дискурсивного поля вокруг понятий «государство» и «личность» в России, начиная с XVIII столетия. Их семантика и их функции в политическом дискурсе не являются ни продолжением каких-то прежних дискурсивных процессов средневековой Руси или некоего «византийского» наследия, ни простой копией европейских образцов, переносимых в новую культурную среду. Они, напротив, складываются под влиянием процессов, индуцируемых самим фактом заимствования.
В государствах Западной Европы понятие «государства» как результата договора выполняло важную легитимирующую функцию, состоявшую в том, чтобы оправдать и утвердить новый статус суверенного государства и его законодательно закрепленную монополию на власть в борьбе с традиционными институтами, властными группами и союзами Средневековья. Именно поэтому столь существенную роль играли в дискурсивной конструкции государства идея общего блага и идея общественного договора, предоставлявшие концептуальную рамку для установления баланса групповых интересов. Напротив, в России эта новая идея государства приобретала в ходе принудительной европеизации почти революционный смысл, становясь выражением разрыва с традицией и принимая черты политического творения из ничего.
Отношение государства и общества в этой семантической конструкции описывается с помощью метафоры «чистого листа» (tabula rasa). Рационалистический образ власти, рассматривающей страну как чистый лист и стремящейся повсеместно исписать его самыми современными и самыми разумными порядками, кристаллизуется в семантике «государства» и связанных с ним политических понятий, сохраняясь при всех политических режимах и государственных устройствах.
Значимым следствием этой дискурсивной конструкции политического является то, что она оправдывает любые радикальные меры, которые кажутся необходимыми для цивилизирования страны. И чем сильнее оказывается сопротивление этим мерам, которые сами по себе могут быть рациональными и своевременными, тем жестче применяются репрессии, с помощью которых реализуются цивилизаторские действия, поскольку «рациональным» в этой конструкции оказывается лишь сами действия. Из такого сцепления радикальных мер, призванных установить в будущем цивилизованный и справедливый порядок, возникает политическое состояние, которое можно охарактеризовать формулой перманентное чрезвычайное положение.
Рассмотрение семантик понятий «государство» и «личность» в их отношении и взаимной обусловленности позволяет высветить базовые структуры политического сознания, организующие пространство политического и культурного опыта. Ключевые понятия русской интеллектуальной традиции выступают при этом индикаторами трансформации этих структур. Историческая и критическая рефлексия понятий помогает обнаружить прежние идейные стереотипы, а, тем самым, и содействует их демонтажу.
Бохум, апрель 2010 г.
[1] Кстати и сам термин «идентичность» является примером такой стратегии заимствования, поскольку его современная семантика почти полностью вытеснила прежнее значение совпадения двух разных предметов (ср. «идентичность труда и капитала» Г. Плеханов), тогда как современный массовый узус сформировался под влиянием новых психологических и социологических теорий идентичности.
[2] http://www.sdcyw.com/bukvar.php
[3] И. Кант. Основоположение к метафизике нравов. // Он же. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 3. М., 1997. С. 169.
[4] Дж. Локк. Опыт о человеческом разумении // Дж. Локк. Сочинения в трех томах. Т. 1. М., 1985. (Гл. 27, § 9 «О тождестве личности»).
[5] Alain Blum. Oublier l’État pour comprendre la Russie? In: Revue des Études slaves. Bd. 1. Paris, 1994, 135–145.
С докладом на тему «Государство и личность в русской интеллектуальной истории. История понятий как форма социальной критики» выступит Николай Плотников (Русский университет Бохума, Германия). Содокладчики: Виталий Куренной (ГУ-ВШЭ) и Александр Бикбов (МГУ).
Ведущий семинара – главный редактор журналов «Логос» и «Пушкин» Валерий Анашвили.
В дискуссии примут участие ведущие политические философы, социологи, политологи, общественные деятели, преподаватели московских вузов, аспиранты и студенты.
Место проведения открытого семинара: новый корпус гуманитарных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова по адресу Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, этаж 3, сектор «А», ауд. 307-308 (ст. м.«Университет»).
Материалы к докладу Николая Плотникова «Государство и личность в русской интеллектуальной истории. История понятий как форма социальной критики» прилагаются к настоящему приглашению.
Государство и личность в русской интеллектуальной истории.
История понятий как форма социальной критики
(Предварительные замечания к докладу)
Николай Плотников (Рурский университет Бохума)
1. Язык традиции и поиски «нового языка»
В постсоветский период мы все чаще встречаем в текстах и публичных выступлениях философов и философствующих интеллектуалов один весьма характерный риторический прием, с помощью которого описывается нынешнее состояние культурного сознания. Таким приемом является констатация недостаточности, «нехватки» и даже «отсутствия» языка, способного артикулировать новые формы самосознания и самоописания в современной ситуации.
Все эти констатации сходятся в диагнозе «изношенности» философско-гуманитарных понятий, выработанных прежней интеллектуальной традицией, и их неспособности выразить набор ощущаемых изменений, которые как раз и мотивируют к поиску новых форм самоописания. А будучи к тому же пронизаны и энергией противостояния – будь то поколенческого, идеологического или политического – этой традиции (прежде всего в ее позднесоветском варианте), такие сетования выливаются в требование «нового языка», призванного утвердить в правах идейную формацию, сложившуюся на обломках советского прошлого и идеального образа досоветской «старины».
В качестве реакции на ощущение «израсходованности» языка можно, однако, наблюдать преимущественно лишь две стереотипные стратегии поиска, весьма хорошо известные из русской интеллектуальной традиции. Это либо заимствование готового понятийного аппарата, выработанного западной философской дискуссией, причем идеологический вектор подобного заимствования не играет существенной роли – адепты евразийства и консервативной революции столь же активно ассимилируют соответствующее «западное наследие», сколь и либералы в поисках новых форм артикулирования идентичности.[1]
Альтернативная стратегия предлагает приобщиться к понятийным сокровищам языка Московской Руси, не искаженного европейскими наслоениями Нового времени. (Такова интеллектуальная стратегия В. Найшуля, предъявленная в виде «Букваря городской Руси»[2] с изложением концептов «Царь», «Держава», «Царство», «Околоток» и др.). То, что источником для таких анахронических экспериментов служит, как правило, Словарь В. Даля и его же собрание пословиц – т.е. типичнейший продукт новоевропейского позднеромантического превознесения национальной самобытности – нисколько не смущает поклонников русской старины.
2. «История понятий» как рефлексия философского и политического языка
Впрочем, схватки «архаистов» с «новаторами» всегда составляли неотъемлемый элемент развития философского языка, уравновешивая в нем меру своего и чужого. В них, однако, недостает исторической рефлексии, что обрекает всякий «новый язык» на еще более короткий период полураспада, нежели наличный языковой пласт интеллектуальной традиции. Недостает той критической рефлексии языка, что позволила бы рассмотреть и понять собственное словоупотребление в ретроспективе исторической динамики, и обнаружить спектр реализованных и нереализованных смысловых возможностей, который только и формирует историческую глубину понятийного состава современности.
История понятий, как способ философского и исторического исследования, является одной из форм такой рефлексии философского языка. Ее методологическая эффективность заложена в стремлении рассмотреть глобальные идеологические и мировоззренческие противостояния в виде различия понятий, употребляемых в этих противостояниях, и увидеть исторические трансформации того, общего «словаря» философских понятий, что используется для выражения и обоснования самых непримиримых позиций. Тривиальное соображение, что для изложения своих взглядов даже самые мистические и интуитивистские учения вынуждены использовать язык и определенный набор философских понятий, открывает, поэтому, для исследователя весьма богатую перспективу, а именно – единое поле анализа, позволяющее рассматривать идейные, социальные и культурные противоположности, исторические изменения и разрывы в форме языковых и концептуальных различий. В этом смысле «история понятий» – это не какая-то всеобъемлющая методологическая парадигма, а скорее установка исследования, ориентированного на эмпирическое фиксирование результатов «идейной работы» в языковых значениях и на рефлексию исторической трансформации последних.
Базовой предпосылкой исследования истории понятий является по существу Кантовский тезис о том, что всякий опыт, заслуживающий называться таковым в отличие от мимолетных впечатлений, необходимо опосредствован понятиями и, шире, фундаментальными языковыми различиями. Уточнение этого Кантовского тезиса внесла герменевтическая философия (со времен В.Дильтея), показавшая, что основные понятия или категории, с помощью которых конституируется всякий человеческий опыт, будь то в науке, или в жизненном мире, являются не статически априорными, а исторически изменчивыми. Глубинная грамматика человеческого сознания и коммуникации не задана раз навсегда, но претерпевает историческую эволюцию. И как раз исследование семантических трансформаций основных понятий, формирующих культурный опыт, позволяет проследить характер и направления этой эволюции.
С осознанием потребности найти способ исторической рефлексии актуального языка и связана возможность, и даже необходимость истории понятий как методологической альтернативы господствующим формам историографии. Смысл этой альтернативы может быть прояснен в трех аспектах:
Во-первых, в фокусе внимания истории понятий находится вопрос о семантических трансформациях. При этом исследуется не столько то, когда возник тот или иное понятие (хотя уже такая работа на уровне истории слов дает важные указания на эволюцию философского и политического дискурса), сколько то, как переформатируется в возникающих новых понятиях система теоретических различий, и как изменяется артикулируемая этими различиями структура и конфигурация проблем. Смысл исторического здесь как раз и состоит в том, чтобы увидеть и понять самостоятельную динамику дискурса, фиксируемую в изменении значений, способов и контекстов употребления понятий. Связь слова и понятия, полагаемая в основание историко-понятийного исследования, дает руководящую нить для понимания имманентной историчности философского дискурса, как бы они ни был связан с политическим, литературным, религиозным и прочими прилегающими к нему дискурсами, и даже зависим от них.
Во-вторых, история понятий позволяет отказаться от редукции философского дискурса к социальным и биографическим факторам, как бы ни тяготели сами участники философского сообщества к самоистолкованию в таких редукционистских формах. Ее методологический смысл аналогичен программе «истории искусств без имен» Г. Вельфлина («Kunstgeschichte ohne Namen») и может быть, поэтому, назван «историей философии без имен»: личность философа предстает в перспективе истории понятий как понятийно-аргументативная конструкция, вовлеченная в силовые линии философского рассуждения помимо индивидуальных интенций автора.
Наконец, в-третьих, история понятий позволяет осознать ту историческую дистанцию, что отделяет современный язык – язык исследователя – от языка источников. Благодаря рефлексии этой дистанции мы в состоянии избавиться от той мифологической фигуры «возвращения наследия» и «продолжения традиций», в которую облекалось введение в оборот русских философских текстов в постсоветскую эпоху. Мифологической постольку, поскольку она создавала иллюзию, что возможно отменить ту временную и смысловую дистанцию, которая отделяет нас от этого наследия. И в этом отношении «история понятий» выполняет функцию не только описания, но и критики понятий, раскрывающей их имплицитные мифологические и идеологические предпосылки.
Поэтому можно заметить, что «нехватка языка» представляет собой не только помеху, но и продуктивную философскую ситуацию, свидетельствующую о потребности прервать автоматизм прежнего употребления понятий и найти новые формы концептуализации сознания и культурного опыта. Но продуктивной эта ситуация сможет стать не сама по себе, а лишь на основе исторической критики и рефлексии прежнего строя понятий, на основе сознательного «остранения» прежнего языка философии с тем, чтобы сделать возможными новые формы артикуляции смысла. Без этой работы рефлексии, частью которой является и «история понятий», культура так и останется обреченной на философское «безъязычие».
3. Семантические модели «личности» в интеллектуальной истории
В нижеследующем я попытаюсь проиллюстрировать эти соображения по поводу истории понятий примерами из анализа семантики понятий личность и государство в русской интеллектуальной истории культуры.
Какие же тематические аспекты можно выделить в истории этого понятия?
Для ответа на этот вопрос воспользуюсь схематическим различением трех типов понимания личности, разработанных в эпоху Нового времени в процессе секуляризации проблематики христианского богословия и возрождения римского права. Я обозначу эти типы как «автономия», «идентичность» и «индивидуальность». Данные типы намечают скорее общие тенденции употребления понятий и могут вступать в разнообразные комбинации в работах отдельных авторов. Тем не менее, их различение как самостоятельных типов имеет эвристическую ценность, поскольку они задают различные наборы признаков понимания личности. Можно зафиксировать также, что данные наборы признаков коррелируют с рядом других семантических полей (свободы, собственности, сознания и др.) в области права, искусства, психологии или политической теории, т.е. что они задают когнитивную рамку структурирования культурного опыта.
Модель «автономии», содержание которой ассоциируется с именем Канта, задает понимание личности как абстрактного свойства человека быть субъектом своих поступков. Причем здесь в рассмотрение принимается не отдельный индивид как таковой, но любой индивид, поскольку он способен полагать в основу своих действий универсальные законы практического разума («человечество, как в твоем лице, так и в лице всякого другого»[3]), или человек как «разумное существо», поскольку именно в возможности действовать в соответствии с моральным законом человек проявляет себя как «субъект свободы». Это абстрактное свойство «субъектности» в отношении своих действий означает также, что личность и только она является субъектом вменения и ответственности.
Модель «идентичности», впервые подробно развитая Локком[4], фокусирует понимание личности на другом аспекте. Здесь личность – это постоянство пребывания в изменяющихся состояниях сознания, гарантируемое рефлексивным единством памяти. Лишь сознание обеспечивает единство личности, поскольку только посредством рефлексии в сознании я могу обратиться к своим прежним ментальным состояниям и идентифицировать их как принадлежащие мне. Иначе говоря, личность – это способность приписывать себе свои прежние состояния как принадлежащие одному и тому же сознанию и памяти (отсюда – «тождество»).
Наконец, третья модель понимания личности – «индивидуальность» – восходит к монадологии Лейбница, но наиболее популярную для современности формулировку получает в немецком романтизме. Центральный мотив в ней составляет идея независимости и неповторимости творческого индивидуума. Личность здесь – тот, кто непохож на других, кто создает себя актом творческого самоопределения и различия, достигая тем самым подлинно индивидуальной жизни. Личность – не общее свойство разумной природы человека, равное для всех, и не структурная характеристика всякого сознания, а неповторимое отличие одного человека от других.
Если теперь в контексте предложенных типов понимания персональности, возвратиться к поставленному выше вопросу о тематических приоритетах в русской истории понятия личность, то можно высказать гипотезу, что таким приоритетом является в подавляющем большинстве случаев именно тип «индивидуальности» со всей его внутренней диалектикой обостренного персонализма и столь же радикального антиперсонализма. Другие типы понимания и выражения персональности выступают в истории понятия личность в русском языке как маргинальные вкрапления, не изменяющие основную доминанту.
4. Государство как перманентное «чрезвычайное положение»
Хотя понятие «государство» в русской интеллектуальной традиции формируется в процессе петровской европеизации под воздействием западных политических теорий, споры о том, сравнима ли семантика этого понятия с западноевропейскими аналогами, ведутся до сих пор. Очевидные сложности такого рода сравнений мотивировали французского историка Алена Блюма задаться вопросом «Следует ли забыть государство, чтобы понять Россию?»[5].
Принимая во внимания результаты сравнительных исследований, целесообразнее говорить о «трансплантированной» семантике. Под этим подразумевается то, что понятия формируются в процессе модернизации в модусе сознательного заимствования. А это создает новые эффекты, отсутствовавшие, как в наличных культурных традициях, так и в заимствуемых культурных образцах. Именно такого рода эффекты можно наблюдать в ходе формирования дискурсивного поля вокруг понятий «государство» и «личность» в России, начиная с XVIII столетия. Их семантика и их функции в политическом дискурсе не являются ни продолжением каких-то прежних дискурсивных процессов средневековой Руси или некоего «византийского» наследия, ни простой копией европейских образцов, переносимых в новую культурную среду. Они, напротив, складываются под влиянием процессов, индуцируемых самим фактом заимствования.
В государствах Западной Европы понятие «государства» как результата договора выполняло важную легитимирующую функцию, состоявшую в том, чтобы оправдать и утвердить новый статус суверенного государства и его законодательно закрепленную монополию на власть в борьбе с традиционными институтами, властными группами и союзами Средневековья. Именно поэтому столь существенную роль играли в дискурсивной конструкции государства идея общего блага и идея общественного договора, предоставлявшие концептуальную рамку для установления баланса групповых интересов. Напротив, в России эта новая идея государства приобретала в ходе принудительной европеизации почти революционный смысл, становясь выражением разрыва с традицией и принимая черты политического творения из ничего.
Отношение государства и общества в этой семантической конструкции описывается с помощью метафоры «чистого листа» (tabula rasa). Рационалистический образ власти, рассматривающей страну как чистый лист и стремящейся повсеместно исписать его самыми современными и самыми разумными порядками, кристаллизуется в семантике «государства» и связанных с ним политических понятий, сохраняясь при всех политических режимах и государственных устройствах.
Значимым следствием этой дискурсивной конструкции политического является то, что она оправдывает любые радикальные меры, которые кажутся необходимыми для цивилизирования страны. И чем сильнее оказывается сопротивление этим мерам, которые сами по себе могут быть рациональными и своевременными, тем жестче применяются репрессии, с помощью которых реализуются цивилизаторские действия, поскольку «рациональным» в этой конструкции оказывается лишь сами действия. Из такого сцепления радикальных мер, призванных установить в будущем цивилизованный и справедливый порядок, возникает политическое состояние, которое можно охарактеризовать формулой перманентное чрезвычайное положение.
Рассмотрение семантик понятий «государство» и «личность» в их отношении и взаимной обусловленности позволяет высветить базовые структуры политического сознания, организующие пространство политического и культурного опыта. Ключевые понятия русской интеллектуальной традиции выступают при этом индикаторами трансформации этих структур. Историческая и критическая рефлексия понятий помогает обнаружить прежние идейные стереотипы, а, тем самым, и содействует их демонтажу.
Бохум, апрель 2010 г.
[1] Кстати и сам термин «идентичность» является примером такой стратегии заимствования, поскольку его современная семантика почти полностью вытеснила прежнее значение совпадения двух разных предметов (ср. «идентичность труда и капитала» Г. Плеханов), тогда как современный массовый узус сформировался под влиянием новых психологических и социологических теорий идентичности.
[2] http://www.sdcyw.com/bukvar.php
[3] И. Кант. Основоположение к метафизике нравов. // Он же. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 3. М., 1997. С. 169.
[4] Дж. Локк. Опыт о человеческом разумении // Дж. Локк. Сочинения в трех томах. Т. 1. М., 1985. (Гл. 27, § 9 «О тождестве личности»).
[5] Alain Blum. Oublier l’État pour comprendre la Russie? In: Revue des Études slaves. Bd. 1. Paris, 1994, 135–145.
 .|
.|